Людмила Улицкая: «Наша беда в том, что правят нами футбольные болельщики»

Людмила Улицкая – российская писательница, автор множества бестселлеров, номинантка на Нобелевскую премию по литературе. Среди тем ее творчества – диссидентство, проблемы свободы и отношений индивида и власти. Улицкая активно участвует в политической жизни, оппонируя правящему режиму и идеологии в России. «Журнал» расспросил писательницу о ее видении политической ситуации на постсоветском пространстве и роли литературы в культурной жизни.
– Недавно вы побывали в Грузии. Как вам видится состояние этой страны, а также Украины, Беларуси и других постсоветских стран с разнонаправленным движением, к Западу и к Востоку?
– Продолжается распад советской империи, и это не первый случай «конца империи» в истории. Процесс этот тяжелый, он занимает много времени – читайте Момзена и других историков. Римская империя рухнула давно, но имеется много параллелей. Все проанализировано, все сказано. Это процесс трудный и для метрополии, и для бывших колоний. В Грузии я не была 35 лет, это теперь другая страна. Я принадлежу к поколению людей, принявших мифологию прекрасной теплой Грузии: вино, дружеское застолье, гостеприимность, сердечность, уникальная музыкальность… Это декоративная сторона жизни. Теперь взгляд трезвее: бедная страна, трудно живущая, неухоженная, очень грустно смотреть. Развал промышленности. И все те же чудесные лица, друзья. И всем трудно.
В Киеве я была уже после Майдана – энтузиазм и надежды еще были на самом подъеме. Сейчас уже видна усталость людей и слабость правительства. А Литва в этом отношении гораздо крепче – так мне показалось. Да она и к Европе ближе, и с Россией не такие крепкие культурные связи.
Лукашенко заставляет меня менять свою точку зрения. Прежде он казался советским сатрапом, а сейчас удивляет самостоятельностью поведения. Таково мое общее впечатление. Я не политолог, я человек, который идет по городу и смотрит с любопытством вокруг. И интереснее всего мне люди, а не экономическое положение, не политические противостояния внутри страны.
– Развитие постсоветских стран напрямую зависит от гипотетической смены власти в России? Есть ли малейший повод для оптимизма?
– Я не оптимист и не пессимист, я реалист. То, что я наблюдаю, не предвещает такого развития событий, которое мне могло бы понравиться.
«Журнал» также рекомендует:
– Являются ли локальные войны лишь неким прологом к Третьей мировой?
– Есть точка зрения, что Третья мировая уже идет, но она имеет иные характеристики, чем предшествующие войны. Слишком много накопилось ядерного оружия, разгрохать весь мир можно в несколько дней. Это понимают все, кроме, кажется, Ирана. Будем считать, что пролог мы уже миновали, идет «тихая» война. Она имеет шанс перейти в громкую.
– Какой во всем этом вы видите роль Европы: равнодушие, желание до последнего не вмешиваться, поскольку гражданам ЕС это неинтересно и ненужно?
– То, что вы перечислили, можно принять. Но вы назвали лишь отрицательные характеристики, а к этому можно добавить и осторожность, и взвешенность, и страх совершить непоправимую ошибку, и заботу о будущих поколениях, о сохранении культуры (во время войны французы Париж сдали, но город-то спасли!), и нежелание навязывать свою волю остальному миру.
– Сегодня крайний либерализм и консерватизм, точнее, крайний национализм, иногда кажутся одинаково нечувствительными к судьбе отдельного человека. Первый из них несколько инфантилен, а второй – опасен. Согласны ли вы с этим?
– Я бы иначе формулировала эту проблему: страшнее всего глупость. И тех, и других. Умный либерал договорится с умным консерватором, но наша сегодняшняя беда в том, что правят нами «футбольные болельщики». И какие у них в голове идеи, совершенно не важно: они хватают пластиковые (в лучшем случае) бутылки и шарахают ими. И это еще хорошо, что не бутылки с коктейлями Молотова.
Одичание и варваризация мира представляют собой гораздо большую опасность, чем политические идеи. В особенности в тех случаях, когда государствами руководят люди с культурным уровнем футбольных болельщиков.
– С распадом Союза распалось и общее культурное пространство. Есть ли сожаление об этом? Или же, как вы заметили в речи на вручении государственной премии Австрии, культура как таковая потерпела тотальную неудачу?
– Есть такие вещи, которые уже не восстановишь, о них можно только грустить. Скажем, в Советском Союзе сложилась уникальная и замечательная литература, написанная людьми, для которых русский язык даже не был родным. Начиная от Юрия Рытхэу и заканчивая Фазилем Искандером. Замечательная литература. Восстановить это невозможно. Только наивные большевики и их последователи считают, что культурой можно руководить. Культура – живой организм, мощный, как океан или землетрясение. Культура знает периоды взлетов и падений, но это органический процесс, не напрямую связанный с амбициями государства и его госзаказом. Но придавить культуру можно. Пример – Серебряный век. И то большой вопрос, не сам ли он скончался. Но власть определенно помогла.
«Журнал» также рекомендует:
– Что вам известно о литературном пространстве на русском языке вне России: в Украине, в Беларуси, в Израиле и Америке? Сохраняется ли в этих странах чувство «имперскости» русского языка, разность мироощущений?
– Если говорить об эмигрантской литературе, то проблема языка для нее – это проблема одного поколения. Дети американцев-эмигрантов, так же как и израильтян-эмигрантов часто русского языка не знают и уж, во всяком случае, не пишут по-русски. Великий пример – Набоков. В течение одной-единственной жизни перешел с русского на английский. Но он же гений! Даже у Бродского это не совсем получилось. А писатели размерности Довлатова существуют ровно одно поколение. Но и это время уже ушло. Явится гений, пишущий по-русски, все равно где – мир его примет.
– Вы издали сборник произведений украинских писателей на русском языке, собираетесь продолжить идею с грузинскими прозаиками. Чем была вызвана такая идея и каковы ее перспективы?
– Эта идея издания в России сборников украинских и грузинских писателей на нашем уровне всего лишь жест – мы помним, что вы есть, мы хотим знать, о чем думаете, чем живете, что пишите… Последнее десятилетие эта связь прервалась, хотелось бы ее восстановить. Идея эта не нова – во всем мире существует культурный обмен, потому что культура не состоит из отдельных ручьев, она поток, вбирающий в себя все языки. А тут вмешивается политика, мешает нам говорить друг с другом. Слово «космополит» по сей день несет отрицательную коннотацию. Вероятно, я космополит – мне ужасно интересно литература Японии, Африки, Колумбии… Украины и Грузии.
«Журнал» также рекомендует:
– Интересно ли вам молодое поколение литераторов?
– Я вынуждена последние годы так много читать «по делу», что совершенно не слежу за новинками. Вот выйду на пенсию и буду читать исключительно для удовольствия. Пока не получается. И вообще – писать и читать – в некотором смысле разные профессии.
– Существует ли врожденная предрасположенность к добру и злу у человека, или это качества приобретенные?
– Думаю, да. Есть злые дети. Из них вырастают злые люди. Но если эти злые люди умные, иногда им удается прожить, не причиняя особого зла окружающим.
– Ваша центральная мысль, восходящая к евангельскому «В Начале было Слово», что человек – это текст. Как вы думаете, меняется ли этот текст в исторической перспективе?
– Текст развивается, постоянно дописывается. И наблюдать за этим – высшее счастье ученых и художников всех мастей.
– Если «литература бесцельна», как заметил Довлатов, то что она все же может сделать сегодня? Насколько писатель обязан быть актуальным, чтобы выйти на широкую аудиторию?
– Кто ставит перед собой задачу иметь читательский успех, тот занимается специальной стратегией. Для меня актуальное – это то, что интересно мне сегодня. Иногда так получается, что не одной мне – и тогда книга становится читаемой. Относительно бесцельности литературы можно согласиться, но тогда мы вынуждены взять шире и признать, что и культура бесцельна. А что создало человечество кроме культуры? Ничего. Остальное не считается.
– Насколько можно реализовать себя сегодня на постсоветском пространстве? Что бы вы посоветовали людям, живущим тут, лишенным возможности или желания уехать, но сохранившим творческий потенциал?
– Этот вопрос не географический. Он для всего мира один и тот же. Возьми ручку и пиши. Простите – сядь за компьютер и пиши. Рисуй, сочиняй музыку. Танцуй, в конце концов. Просто это может быть не связано с зарабатыванием денег. Платонов, между прочим, дворником работал, а Кафка был чиновником в банке. Реализовали свой потенциал. И никакая власть им не помешала.

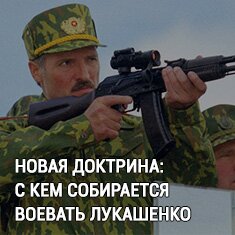
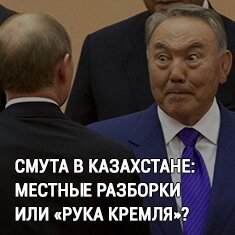

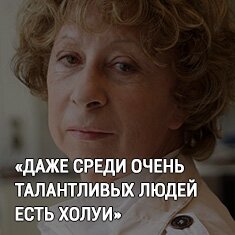
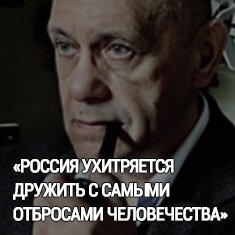
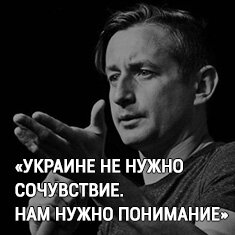
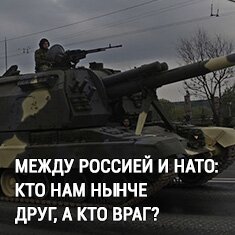
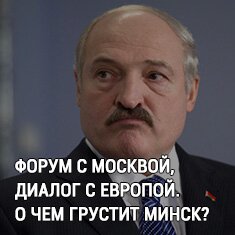

Комментировать