«Неоновый демон»: живые (и) мертвые

«Неоновый демон» слаб как фильм, но хорош как знак перемены мест. Как повод понять: кино после кино – это не кризис, а новый порядок. Свежий контракт автора и зрителя таков: меня глючит, ты колбасишься.
Ощущение конца времен – не сенсация, а банальность. Вдруг понимаешь, что массы вещей, с которыми тебе было хорошо и комфортно, уже не существует. А тех, что все же остались, современники пользуют совсем иначе, в особо извращенной форме.
Дело не в том, что вокруг все больше хлама. А в том, что ты все меньше понимаешь его новое предназначение. Вот, скажем, кино. Тарковский, Годар, Фассбиндер, Вендерс и прочие микки-маусы. Дизайн зрения, режиссура духа, бла-бла-бла… Кто-то еще не в курсе, что всего этого больше нет?
Есть домашняя кухня сериалов, жвачка Pixar, попкорн блокбастеров, рюмочные арт-хауза. И картон фестивальной выделки, притворяющийся съедобным. Хотите надкусить? В минском прокате главный шокер недавнего Каннского МКФ – «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна.
Лучший способ смотреть фильмы – отключить персональный Google и просто упасть в экранный материал. В нашем случае хватит знать, что «Демона» сделал датский фанат штатовских ужастиков и британского блатняка, в свои 46 успевший снять 10 фильмов, разориться и выиграть Канны. Нет, не с «Демоном». «Демона» в Каннах встретили кошачьим концертом. Эстеты позорные.
А вот у нас поймут. У нас покатит. Мы такого еще не кушали. Ну как «мирным людям» не купиться на сюжет о провинциальной блондинке, отправившейся покорять порочный Лос-Анджелес невинным взглядом и цветастым сарафанчиком? Как не увлечься эффектной картинкой в неоновом стиле дискотек 1980-х (только в кино, только большой экран!)? Как не войти в киноманский раж, лихорадочно считывая цитаты и отсылки: тут Ардженто, там Линч, здесь Кроненберг, а вот там вообще «Части тела»?
«Журнал» также рекомендует:
Кастинг солидный – от свеженькой Эль Фаннинг и потрепанного Киану Ривза до знакомцев по «Безумцам» и «Декстеру». В общем, шик порционно. Модная штучка для модных ребят. Фасонная. Почти как настоящая.
Откуда тогда четкий привкус разводки и обмана? Почему два часа как с наперсточником провел? После сеанса машинально проверяешь, на месте ли бумажник. Он-то цел. Вот в голове – космические сквозняки.
Все становится на свои места, если понять, что Рефн сознательно и целеустремленно лепит кино после кино. Подобно Тарантино он ценит бульварные жанры и дешевое позерство, вслед за Квентином клеит свои фильмы из чужих обрезков. Но Тарантино по-пацански влюблен в олдскульный кинематограф. А вот Рефну с ним смертельно скучно.
Грамотно обученный киноделу, он манипулирует зрительскими эмоциями – но лениво, как полуночный диджей. Типа сидят девушки, точат друг на дружку кухонные ножики и вдумчиво толкуют о красоте. Так делал бы саспенс вконец обкуренный Хичкок. Таким мог бы стать Гринуэй эпохи смартфонов. Так бы снимал Альмодовар, ампутируй ему в младенчестве чувство юмора и в срок не научи плясать на высоких каблуках.
Датскому передовику неонуара интересней не мотивы персонажей, а рисунок обоев в зачуханном мотеле, где зависла на полпути к славе залетная блондинка. Он ценит не развитие сюжета, а плеск стробоскопа и застывший лик героини, преломившийся в трехгранной призме. И пользует не рифмовку монтажа, а его нахальное вычитание: сиди и смотри как девица в белом пять минут рапидом проплывает из конца в конец черного экрана.

Собственно, истории хватает ненадолго: на нее отведено минут десять вначале и столько же в конце. Всё прочее – позолоченный зеро, затяжная глянцевая фотосессия. Монтаж-бандаж, тягучее слайд-шоу…
В «Неоновом демоне» увязаешь, как в болоте. Поэтому он кажется бесконечным и периодически тянет проснуться. Как в любом сне, персонажи тут возникают ниоткуда, исчезают в никуда. И не работают на результат.
Актерам играть нечего и нечем: у каждого партия в три ноты. Вместо характеров – картонные маски: стерва, принц, опять стерва, урод, позер, снова стерва…
Любить некого, жалеть не за что. Диалоги обрывочны и банальны, монологи умирают в зародыше, слова работают как реплики из комиксов: их смысл столь же разорван и не способен сложиться в сообщение.
Впрочем, автору, кажется, и сказать-то нечего. При всех эпатажных приемчиках – от драки в дамской уборной и лесбийских прихватов до соблазнения покойниц и самоубийства ножницами – содержательный ресурс и общий градус эмоций в «Демоне» не больше, чем в типовом модном дефиле. Хотя и не меньше.
Да, это механический балет. Да, это куклы. Но ты, зритель, тоже кукла. Сиди. Гляди. Потом уходи. Спасибо, что без сдачи.
«Журнал» также рекомендует:
«Демон» слаб как фильм (в его привычном понимании), но хорош как знак перемены мест. Как повод понять: кино после кино – это не кризис, а новый порядок. Киношник больше не шальной экспериментатор, не социальный критик и не городской партизан.
Свежий контракт автора и зрителя таков: меня глючит, ты колбасишься. И уже почти не важно, что за кино ты изготовил: адреналиновых «Мстителей» или ушастый «Зверополис», шокинг-глэм «Неонового демона» или квазидокументального «Сына Саула». Важны общая одержимость техникой и подмена идеи хореографией.
Человек с кинокамерой сегодня трепыхается бабочкой в банке меда. И вместо полета демонстрирует лишь способность к движению.
Ну, а зритель? Зритель приходит взглянуть на эту агонию.
По теме
- Топ-7 новых сериалов 2020 года
- С прошлым мирись и больше не дерись. «Джентльмены» Гая Ричи как зеркало британской революции
- Стриптиз, война, «Москва» и «Чернобыль». Итоги 2019 года в беларусском кино
- Make Hollywood great again. Как «Паразиты» укрепили международный статус «Оскара»
- Топ-7 ожидаемых фильмов 2020 года

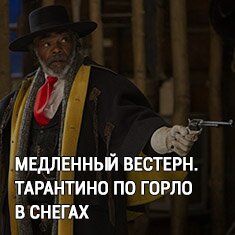
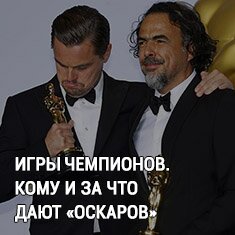
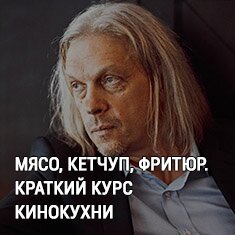
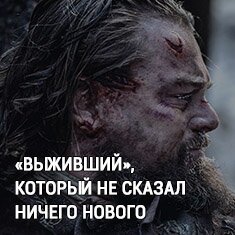


Комментировать